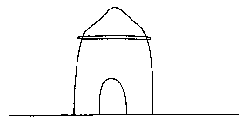|
|
АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология |
X. Август
Караваджо спустился в полумраке по ступенькам на кухню. На столе лежали сельдерей и репа с прилипшими комьями земли. Хана возилась у камина, разводя огонь, и не слышала, как он вошел. За те дни, которые он провел на вилле, его тело расслабилось и освободилось от напряжения, от этого он казался крупнее, более раскованным и вальяжным в движениях. Появилась какая-то неэкономность и в то же время заторможенность, сонливость в жестах. Только походка осталась легкой и неслышной. Сейчас он почувствовал неловкость из-за того, что стоит у Ханы за спиной, и намеренно с грохотом подвинул стул, чтобы она услышала, что в кухне есть еще один человек. — Привет, Дэвид. Он заслоняет рукой лицо от яркого света огня, словно от солнца. Вероятно, он слишком долго пробыл в пустыне с английским пациентом. — Как он? — Уснул. Выговорился и уснул. — Твои подозрения насчет него оправдались? — Он отличный парень. Пусть живет. — Я так и думала. Мы с Кипом уверены, что он англичанин. Кип считает, что все лучшие и умные люди немного странные. Эксцентричные. Он работал с одним из таких. — Кип и сам не без странностей. Между прочим, кстати, где он? — На террасе. Что-то замышляет к моему дню рождения и не хочет, чтобы я видела заранее. Хана поднялась от каминной решетки, вытирая одну руку о предплечье другой. — Ради твоего дня рождения хочу рассказать тебе маленькую историю, — сказал он. Она посмотрела на него. — Только не о Патрике, ладно? — Немножко о Патрике, но больше о тебе самой. — Я все еще не могу спокойно слушать о нем, Дэвид. — Когда отцы умирают, уходят из мира живущих так или иначе, это естественно. А мы все равно продолжаем их любить — как умеем, как можем. Ты не в силах выбросить его из своего сердца. И не в силах бесследно запрятать память о нем там, в глубине души… — Давай поговорим, когда пройдет действие морфия. Она подошла, положила руки ему на плечи, подтянулась и поцеловала его в щеку. «Дядюшка» Дэвид крепко обнял ее, царапая кожу щетиной, словно песком. Ей нравилось это в нем теперь; раньше он слишком много внимания уделял своей внешности. Патрик обычно подсмеивался над его ровным пробором. «Как Йонг-стрит в полночь», — говаривал он. Раньше в ее присутствии Караваджо двигался, как бог, и выглядел недоступным. Сейчас, с таким лицом, немного располневший, с этой сединой и коротко остриженных волосах, он казался более земным и близким. * * * Кип взял на себя приготовление сегодняшнего ужина. Каранаджо считал это пустой затеей — слишком много затрат на один раз для троих. Кип раздобыл овощей и, слегка проварив их, сделал легкий суп. Это была не такая еда, какую хотелось бы Караваджо нынче, когда он почти весь день провел у пациента наверху, слушая его исповедь. Он открыл шкафчик под раковиной. Там лежал кусок сушеного мяса, завернутый во влажную тряпку. Отрезав от него немного, Каранаджо положил себе в карман. — Знаешь, я могу вылечить тебя от привязанности к морфию. Я ведь медсестра. — Тебя окружают сумасшедшие… — Мне кажется, мы все такие. Когда Кип позвал их, они вышли из кухни на террасу и увидели, что по кругу низкой каменной балюстрады горят огни. Это походило на гирлянду электрических свечек, которые можно было найти в пыльных церквах, и Караваджо подумал, что, вынося их из часовни, сапер зашел слишком далеко, даже если учитывать день рождения Ханы. Хана медленно пошла вперед, бесшумно ступая по каменному полу, закрыв лицо руками. Ни ветерка. Ее бедра и икры двигались под тканью платья, будто под тонким слоем воды. — Везде, где я работал, я собирал мертвые раковины,[94] — сказал сапер. Сначала они не поняли, но когда Караваджо наклонился над трепещущими огоньками, то увидел, что это и впрямь раковины улиток, наполненные маслом. Их было более сорока. — Сорок пять, — гордо заявил Кип, — по количеству лет, уже спустившихся на Землю в этом столетии. У меня на родине заведено в день рождения отмечать не только возраст человека, но и «возраст» текущего столетия. Хана прошла вдоль огней, держа руки в карманах, что особенно правилось Кипу. Походка казалась такой спокойной, а фигура девушки — такой расслабленной, как будто этим вечером руки ей более были не нужны и она отправила их куда-то на отдых, а сама теперь просто двигалась, не помышляя об их отсутствии. Караваджо перевел взгляд на стол и удивился, увидев там три бутылки красного вина. Он подошел ближе, прочитал на них этикетки и восхищенно покрутил головой. Неплохое вино. Он знал, что сапер не будет пить ни капли. Все бутылки уже были открыты. Возможно, Кип нашел в библиотеке книгу по этикету и решил точно соблюсти западные правила хорошего гона. Потом он увидел кукурузу, мясо и картофель. Хана взяла Кипа под руку, и вместе они подошли к столу. Они ели и пили, ощущая неожиданную густоту вина и вкус мяса на языке. Вскоре начали провозглашать тосты за сапера — «великого снабженца»,[95] за английского пациента. Потом пили за здоровье друг друга. Молодой сикх чокался с ними, протягивая свой стакан с водой. Именно тогда он начал рассказывать о себе. Караваджо вызвал его на откровенность, а сам не всегда и слушал, порой вскакивал, топтался вокруг стола, довольный всем происходящим. Он хотел, чтобы эти двое поженились, хотел сказать им об этом, но, похоже, у них уже сложились свои отношения, которые их устраивали, а для Караваджо казались странными. Ну что ему еще оставалось делать в такой ситуации? Он снова сел. Время от времени огонь то в одной, то в другой раковинке потухал. Они потребляли слишком много топлива, потому что оно выгорало очень быстро. Тогда Кип вставал и наполнял их розовым парафином. — Мы должны поддерживать огонь до полуночи. Они поговорили о войне, которая ушла уже так далеко от Европы. — Когда закончится война с Японией, все, наконец, разъедутся по домам, — сказал Кип. — А куда ты поедешь? — поинтересовался Караваджо. Сапер покрутил головой, словно бы кивая, и улыбнулся. И тогда Караваджо начал говорить, в основном обращаясь к Кипу. Собака осторожно подошла к столу и положила голову на колени Караваджо. Сапер расспрашивал о Торонто, как будто это был город чудес. Снег, в котором он утопал, мороз, который сковывал гавань льдом, паромы летом, где люди слушали концерты. Но больше всего ему было интересно в этих рассказах нащупать, найти, получить разгадку к характеру Ханы. А она держала ушки на макушке и постоянно уводила Караваджо от тех историй, которые были связаны с какими-то моментами из ее жизни. Она хотела, чтобы Кип знал ее именно такой, какая она сейчас, — возможно, более опытной, или более участливой, или более жесткой, или более одержимой, чем та девочка или молоденькая девушка, которой она была когда-то. В ее жизни краеугольными основами выступали ее мать Элис, отец Патрик, мачеха Клара и Караваджо. Она уже называла Кипу эти имена, как будто они были ее удостоверениями личности или ее приданым. Они не имели изъянов и не подлежали обсуждению. Она использовала их, словно неоспоримые и безупречные указания признанных авторитетов в книге, где было написано, как правильно сварить яйцо или начинить чесноком баранину. И их слова не подвергались сомнению. А сейчас, потому что он был уже немного пьян, Караваджо рассказывал историю о том, как Хана исполняла «Марсельезу», которую он напоминал ей здесь раньше. — Я слышал эту песню, — сказал Кип и попытался речитативом не без акцента продекламировать из нее несколько строк. — Нет, ее надо петь, — возразила Хана. — Ее надо петь стоя. Она встала, сняла теннисные туфли и забралась на стол. На столе перед ее босыми ногами горели, почти затухая, четыре раковины. — Я спою для тебя. Вот как нужно ее петь, Кип. Это для тебя. И она запела, вынув руки из карманов. Голос ее лился над умирающими огоньками в раковинах, мимо квадрата света из окна английского пациента, в темноту неба, смешанную с силуэтами кипарисов. Кип слышал эту песню в лагерях, когда солдаты группами пели ее при особых обстоятельствах, например перед началом импровизированного футбольного матча. Караваджо тоже слышал эту песню в годы войны, но ему она не нравилась, то есть не нравилось ее исполнение. Его память сохранила тот вечер, когда Хана пела ее много лет назад. Сейчас он слушал с удовольствием, как она пела ее снова. Но она уже пела ее по-другому. В ее пении не ощущалось той страсти шестнадцатилетней девочки, но виделись робкие щупальца света, простирающиеся от застолья в сомкнувшуюся по кругу тень. Песня словно была в рубцах и шрамах, будто уже и сама потеряла надежду на то, о чем в ней поется. В песне звучал опыт всех пяти лет, которые предшествовали этому вечеру в 1945 году двадцатого столетия, когда Хане исполнился 21 год. Это был голос усталого путника, одинокого перед теми испытаниями. Новый Завет. В песне не чувствовалось уверенности. Лишь один голос встает против сил власти. Все разрушено вокруг, остался только этот голос. Песня огоньков, горящих в раковинах садовых улиток. Караваджо понял: она пела о том, что было в сердце сапера. По ночам в палатке они иногда молчали, а иногда разговаривали. Они не знали, что произойдет, чье прошлое выплывет из памяти и обнажится, или каждый будет вспоминать о своем в темноте. Он чувствовал близость ее тела и ее близкий шепот, в то время как головы их покоились на надувной подушке. Кип настоял на том, чтобы пользоваться этим западным изобретением, потому что был просто очарован им, и каждое утро послушно выпускал воздух и складывал подушку втрое. Он привык выполнять эту процедуру и делал ее на всем пути от юга к северу Италии. В палатке Кип кладет голову девушке на грудь. Он расслабляется, когда Хана почесывает его кожу. Или когда его губы сливаются с ее губами, а ее рука лежит у него на животе. Она напевает или мурлычет про себя. В темноте палатки молодой мужчина кажется ей наполовину птицей: в его теле есть легкость пера, а на запястье — холодный металл браслета. Окольцованная, но свободная птица. В темноте он двигается медленно, не так, как днем, пробегая взглядом по всему случайному и временному в своем окружении, словно блик одного цвета скользит по другому. По ночам его охватывает оцепенение. Не видя его глаз, она не может достучаться до него и тыкается во всех направлениях, как слепой котенок. Ей хочется понять его, узнать, чем он дышит, словно увидеть все внутренности, сердце, ребра сквозь кожу. Он выразил ее печаль, как никто другой. Теперь она знает странную любовь, которую он испытывает к своему старшему брату, постоянно попадающему в опасные ситуации. «Тяга к странствиям у нас в крови. Вот поэтому ему так трудно в тюрьме, и он даже может убить себя, только чтобы вырваться оттуда.» Разговаривая по ночам, они путешествуют в его страну пяти рек.[96] Сатледж, Джелам, Рави, Чинаб, Биас.[97] Он ведет ее в гурдвару,[98] сняв с нее туфли, и наблюдает, как она омывает ноги, мочит водой голову. Этот великий храм, в который они пришли, был возведен в 1601 году, осквернен в 1757-м и сразу же построен заново. В 1830 году его украсили золотом и мрамором. «Если я приведу тебя сюда на рассвете, то над водой все будет окутано туманом. Потом он поднимается вверх, открывая храм свету утренней зари. Ты услышишь гимны святым — Рамананду, Напаку[99] и Кабиру.[100] Поют в центре храма. Ты слышишь песни, вдыхаешь запахи фруктов, доносящиеся наплывающие из окружающих садов, — гранаты, апельсины. Храм — убежище в потоке жизни, доступное каждому. Это корабль, который преодолел океан невежества.» Они проходят в ночи через серебряную дверь к алтарю, где под балдахином из парчи лежит священная книга «Грантх Сахиб».[101] Рейджи поют тексты из этой книги. Играют музыканты. Они поют с четырех утра до одиннадцати вечера. Книгу открывают наугад, выбирают строку, с которой можно начать, и в течение трех часов до того, как туман поднимется и откроет Золотой Храм, голоса поющих сплетаются и расплетаются с голосами не прерывающих чтения. Кип ведет ее дальше, где у пруда рядом с деревом расположена гробница, в которой похоронен Баба Гуджхаджи, первый маханта[102] этого храма. Дерево суеверий, которому четыреста пятьдесят лет. «Моя мать приходила сюда, чтобы привязать ленточку на его ветку и попросить у дерева сына, а когда родился мой брат, пришла снова, чтобы оно благословило ее на второго. По всему Пенджабу растут священные деревья и текут волшебные реки.» Хана молчит. Он понимает, что в ней уже ничего не осталось после потери ребенка и веры. Он ощущает всю глубину пугающей черной пропасти в ее душе. Он всегда старается вызволить ее из долгих ночей печали: сначала не стало ребенка, потом — отца. — Я тоже потерял одного человека, который был мне дорог, как отец, — сказал он. Но она знает, что этот мужчина, находящийся сейчас рядом с ней, — заговоренный. Он вырос в другом мире, и ему легко будет обрести свою веру и найти замену потере, о которой он говорит. Есть люди, которых разрушает несправедливость, а есть те, которые сохраняют стойкость. Если она спросит его о жизни, он скажет, что у него все отлично, — несмотря на то что его брат томится в тюрьме, друзья погибли, а сам он смертельно рискует каждый день. Такие люди бывают удивительно добрыми, но и ужасающе непробиваемыми одновременно. Кип мог целый день находиться в яме, обезвреживая бомбу, которая способна убить его в любую минуту, мог вернуться домой опечаленный, похоронив своего друга, но какие бы испытания его ни постигали, у него всегда есть решение и свет. А у нее не было такого. Она ничего не видела в будущем. Перед ним лежали разнообразные карты судьбы, и в храме Амритсара[103] приветствовали все вероисповедания и классы, и все ели вместе.[104] Ей бы тоже разрешили положить деньги или цветок на простыню, расстеленную на полу, а потом присоединиться к их протяжному пению. Она бы очень хотела этого. Ее истинной природой, подлинной сущностью ее натуры была печаль. Кип разрешил бы ей войти в любые из тринадцати ворот его характера, но она знала, что в случае опасности он никогда не попросит ее помощи, а создаст вокруг себя пространство, запретную зону и не допустит туда никого. Таков был его талант. — Сикхи, — говорил он, — отлично разбираются в технике. У нас есть таинственная близость… как это сказать? — Слабость? — Да, слабость к технике. Он мог часами находиться и их обществе и одновременно быть затерянным в невообразимой дали благодаря ритмичной музыке из своего детекторного приемника, которая была словно непроницаемый шлем, закрывающий наглухо и уши, и лоб, и волосы на голове до самой шеи. Хана не верила, что может полностью раскрыться ему и быть его возлюбленной до конца жизни. Он двигался сквозь мир и события со скоростью, которая всегда позволяла найти замену потере. Такова была его истинная природа, подлинная сущность его натуры. И кто бы имел право осуждать его за это? Каждый день Кип появлялся из палатки с мешком, переброшенным через левое плечо, и отправлялся из виллы Сан-Джироламо. Каждое утро она видела его, видела, как он радуется миру, возможно, в последний раз. Через несколько минут он взглянет вверх на покалеченные снарядами кипарисы со сбитыми средними ветвями. Возможно, так же шел по своей дороге Плиний… или Стендаль, потому что события романа «Пармская обитель» происходили в этой части мира. Кип посматривал вверх, на арку высоких раненых деревьев. Перед ним расстилалась средневековая дорога, по которой шел не историк и не писатель, не астролог и не монах, а он, молодой мужчина с самой странной профессией, которую изобрело человечество в этом веке, — сапер, военный инженер, обнаруживающий и обезвреживающий мины. Каждое утро он появлялся из палатки, умывался и приводил в порядок свою одежду в саду, а потом покидал виллу, даже не заходя в дом, — махнет лишь рукой, если заметит ее, — будто слова, общение рассеивают, смущают, отвлекают его, мешают слиться с машиной, которую ему предстоит понять. Позднее она видит, как он обезвреживает дорогу в сорока метрах от дома. В такой момент для него никто не существовал. Крыло подъемного моста взлетало к надвратной башне после проезда рыцаря, и он оставался лицом к лицу со всем остальным миром в спокойном единении со своим строгим талантом, не допускающим отклонений или снисхождения. В Сиене[105] она видела фреску, на которой был изображен средневековый город. В нескольких десятках сантиметров от его стен краски осыпались, так что даже искусство не гарантировало безопасности в окрестных садах и полях путешественнику, покидающему замок. Она чувствует: именно там Кип и проводит целые дни. Каждое утро он спускается с нарисованной сцены в хаос отвесных обрывов и утесов. Рыцарь. Святой воин. Она еще видит, как его форма цвета хаки мелькает между деревьями. Англичанин назвал его фато профугус — «бегущий от судьбы». Она догадывается: Кип чувствует радость и удовольствие от того, что может начинать эти дни, подняв голову и лицо вверх и посматривая на верхушки деревьев. * * * В начале октября 1943 года из саперных подразделений, которые уже работали в Италии, отобрали лучших специалистов и перебросили по воздуху в Неаполь. Кип был среди тех тридцати, которых доставили в этот город-ловушку. Отступление немцев в итальянской кампании было самым замечательным и ужасающим за всю историю войн. Наступление войск союзников, на которое по планам должен был уйти один месяц, продолжалось целый год. Их путь был опален огнем взрывов. Во время передислокации армий вперед саперы сидели на крыльях автомобилей и внимательно осматривали поверхность земли, замечая любые неровности и разрыхления почвы, где могли быть мины. Продвижение шло невероятно медленно. Каждая воюющая сторона считала своим долгом установить мины. На севере, в горах, партизаны из отрядов коммунистов-гарибальдийцев, носившие красные шейные платки, тоже опоясывали дороги проводами, которые вели к минам, и мины детонировали и тот момент, когда по ним проезжали немецкие машины. Трудно представить масштабы минной войны в Италии и Северной Африке. У слияния дорог на Кисмайо и Афмадоу[106] было найдено 260 мин. В районе моста через реку Омо[107] — 300. 30 июня 1941 года южноафриканские саперы заложили на подступах к Мерса-Матруху 2700 мин типа «Mark 1b», а через четыре месяца в той же местности британские саперы сняли 7806 мин и перевезли их в разные точки для повторного использования. Мины делали из всего что попало. Сорокасантиметровые оцинкованные трубки подрывники заполняли взрывчатым веществом и расставляли по дорогам, где могла проходить военная техника. В домах прятали мины в деревянных коробках. Трубчатые мины заполняли гелигнитом, отходами металла и гвоздями. Южноафриканские саперы помещали железо и гелигнит в шестнадцатилитровые канистры из-под горючего, которыми уничтожались бронемашины. В городах было тоже несладко. Едва обученные саперные подразделения были срочно привезены морем из Каира и Александрии. Восемнадцатый дивизион прославился тем, что в течение трех недель в октябре 1941 года обезвредил 1403 бомбы высокой взрывной силы. В Италии положение было намного хуже, чем в Африке. Взрыватели с часовым механизмом вели себя очень странно, как в ночном кошмаре; пружинные механизмы отличались от тех, которые делали немцы до этого и на которых обучались специалисты союзников. Когда саперы вступали в города, они шли по улицам, вдоль которых свисали мертвые тела с деревьев, балконов, из окон зданий. Немцы наносили ответный мстительный удар, убивая по десять итальянцев за каждого погибшего немца. Некоторые висящие трупы тоже были заминированы и должны были взрываться, уничтожая прикоснувшихся к ним людей. Немцы сдали Неаполь 1 октября 1943 года. Во время атак союзников месяцем раньше, в сентябре, сотни жителей переселились в пещеры за городом. Отступая, немцы разбомбили входы в пещеры, вынудив людей оставаться под землей. Среди тех, кто был в пещерах, началась эпидемия тифа. А суденышки в гавани были спешно заминированы под водой. Тридцать саперов вошли в город-ловушку. Стены общественных зданий были напичканы бомбами замедленного действия. Почти каждое транспортное средство выглядело ненадежным. Саперы с подозрением относились к любому предмету, который находился в осматриваемой комнате. Они не доверяли ничему разложенному на столе, как бы заманчиво или, наоборот, отвратительно этот «натюрморт» ни выглядел. Неаполь продолжал оставаться военной зоной еще шесть недель, и все это время Кип был там. Через две недели обнаружили жителей в пещерах. Лица этих людей были черными от грязи и тифа. Цепочки их, тянущиеся в госпитали, напоминали шествие призраков. Четырьмя днями позже взорвалось здание центральной почты, раненых и погибших было 72 человека. В городских архивах сгорела богатейшая в Европе коллекция средневековых хроник. 20 октября, за три дня до того, как должны были запустить в действие восстановленную электростанцию, в руки союзников добровольно сдался германский офицер, который рассказал, что и районе порта установлены тысячи бомб, связанные с пока обесточенной электрической системой. При подаче напряжения город взлетит на воздух. Его допрашивали более семи раз с разной степенью пристрастия, и все-таки ответственные лица не до конца были уверены в правдивости показаний немца. Тем временем все из города были эвакуированы. Полуживые дети и старики, беременные женщины, те, кого вытащили из пещер, животные, автомобили на ходу, раненые солдаты из госпиталей, пациенты сумасшедшего дома, священники, монахи и монахини. К вечеру 22 октября 1943 года в городе осталось только двенадцать саперов. Электричество должны были включить в три часа следующего дня. Никто из саперов раньше не оказывался в абсолютно пустом городе, и это были самые странные и волнующие моменты в их жизни. * * * По вечерам над Тосканой прокатываются грозы. Молния может ударить в шпиль любого строения или в любой металлический предмет, выступающий над поверхностью земли. Около семи вечера Кип обычно возвращается на виллу по желтой дороге, обсаженной кипарисами. Как раз в это время и начинается гроза (если она начинается), согласно средневековому опыту. Кажется, ему нравятся такие устойчивые во времени события, к которым можно привыкнуть. Хана и Караваджо замечают его фигуру еще издали, когда он останавливается, чтобы посмотреть на долину и определить, настигнет ли его дождь. Они возвращаются в дом. Кип продолжает восхождение по дороге, которая медленно сворачивает направо, а потом столь же неторопливо налево. Слышен хруст его ботинок по гравию. Порывы ветра догоняют его и бьют по кипарисам так, что те склоняются, дотрагиваясь веточками до рукавов его рубашки. Следующие десять минут он идет, не будучи уверенным в том, что останется нынче сухим. Он услышит дождь до того, как почувствует на себе его влагу — звук капель, падающих на сухую траву, на листья оливковых деревьев. Но сейчас пока только дует свежий ветер с холмов, предвестник грозы. Если дождь обрушивается на него прежде, чем он дошагает до виллы, Кип продолжает идти с той же скоростью, накрыв себя и свой мешок прорезиненной плащ-накидкой. Уже очутившись в своей палатке, он слышит раскаты грома. Резкий треск над головой, потом удаляющийся в горы звук, похожий на грохот колес телеги. Внезапно по стенке палатки проскальзывает отблеск молнии, словно полоска солнечного света, даже, как ему всегда кажется, ярче, чем солнце, скорее это вспышка фосфора, нечто искусственное, похожее на то слово, которое он слышал на занятиях и по радио, — «ядерный». В палатке он раскручивает свой промокший головной убор, сушит волосы и заматывает новый тюрбан на голове. Гроза идет со стороны Пьемонта[108] к югу и на восток. Молнии падают на пирамидальные крыши маленьких альпийских часовен, на стенах которых высвечиваются картины, изображающие остановки Христа на крестном пути или таинства молитвы по четкам. В городках Варезе и Варалло фигуры терракотового цвета больше человеческого роста, вырезанные в 1600-е годы, на мгновения оживают, представляя библейские сцены. Связанные руки истерзанного Христа оттянуты назад, плеть опускается на его тело, лает собака; в другой часовне трое римских солдат поднимают распятие выше, к нарисованным облакам. Вилла Сан-Джироламо, расположенная там, где она простояла уже не одно столетие, тоже, как повторялось в эти века не одну тысячу раз, принимает на себя блеск молнии: темные коридоры, комната английского пациента, кухня, где Хана разводит огонь, разрушенная снарядом часовня — все внезапно озаряется, не оставляя теней. Кип уверенно идет под деревьями сада в такую грозу: опасность быть убитым молнией трогательно мала по сравнению с опасностью, которой он подвергается каждый день. Наивные католические образы из храмов на склонах холмов, которые он видел, все еще с ним в полумраке, когда он считает секунды между ударами молнии и грома. Возможно, эта вилла тоже похожа на картину, которую освещают грозовые вспышки, но это действительно живая картина: четыре человека в совершенно разных фазах своих личных путей от начала к концу земного срока, по прихоти судьбы оказавшиеся вместе, считающие эту войну более чем нелепостью. * * * Перед двенадцатью саперами стояла задача прочесать город. Всю ночь они вламывались в закрытые и залезали в открытые подвалы, спускались в канализационные люки в поисках проводов, ведущих ко взрывателям, которые могли быть связаны с центральными генераторами. Все двенадцать должны закончить свое дело и уйти в два часа, за час до того, как включат электричество. Сейчас эта дюжина владеет всем городом. Каждый в своем районе. Один — у генератора. Другой — у водохранилища, ныряет раз за разом к плотине: эксперты почти согласились между собой в оценке тяжести разрушений, которые могут быть вызваны внезапным наводнением, если взорвется дамба. Тишина пугала и лишала спокойствия. Из живого мира они слышали лишь лай собак, своевольно оставшихся на улицах и во дворах, да пение птиц, которое доносилось из окон отдельных домов. Когда придет время, Кип войдет в одну из таких комнат с птицей. Хоть какое-то живое существо в этом вакууме. Он проходит мимо Национального археологического музея, где находятся остатки Помпеи и Геркуланума. Он видел там древнюю собаку, замурованную в окаменевшем белом вулканическом пепле. К его левому предплечью привязан саперный фонарь, который включен, и это единственный свет на Страда Карбонара. Он устал от этого ночного поиска, но теперь уже оставалось немного. У каждого сапера есть радиофон, но они договорились пользоваться им только в экстренных случаях. Больше всего Кипа утомляет тишина в пустых дворах и молчаливые сухие фонтаны. В час дня он направляется к церкви Сан-Джованни, где, как он знает, есть часовня Молитвы по Четкам. Несколько суток назад, когда молнии то и дело наполняли темный город ярким светом, он проходил через нее и видел огромные фигуры, как живые. Ангел и женщина в спальне. После вспышки молнии темнота в очередной раз скрыла эту сцену, и он посидел на скамье, ожидая нового открытия, но его не последовало. Сейчас он проникает в тот угол церкви, поближе к терракотовым фигурам, лица у которых имеют цвет кожи белого человека. Сцена изображает женщину, беседующую в спальне с ангелом. Из-под просторного голубого чепца женщины выбиваются темные локоны, пальцы левой руки приложены к груди почти под самым горлом. Приблизившись к фигурам, Кип осознает, что они значительно больше человеческого роста. Головой он достает только до плеча женщины, сидящей на кровати. Поднятая рука ангела простирается едва ли не до пятиметровой высоты. И все же для Кипа это компания. Это обитаемое помещение, и он вступает в разговор с дивными созданиями, которые представляют сюжет о человечестве и небесах. Он стягивает мешок с плеча и смотрит на кровать. Он бы, право, полежал на ней, но смущает присутствие ангела. Он уже обошел тело небесного посланца и заметил пыльные лампочки, прилаженные к его спине под темными крыльями, и знает, что, помимо собственной воли, не уснет спокойно в присутствии этих электролампочек. Из-под кровати выглядывают три пары домашних тапочек, что не ускользнуло из замысла автора этой сцены. Время около часа сорока минут. Он расстилает плащ-накидку на полу, под голову кладет мешок, умяв его в форму, близкую к плоской подушке, и ложится на гладкость камня. В детстве в Лахоре он всегда спал на коврике на полу своей спаленки. По правде говоря, и здесь, на Западе, он так и не привык спать на кровати. Соломенный тюфяк и надувная подушка — вот его постельные принадлежности в палатке на вилле Сан-Джироламо; а в Англии, у лорда Суффолка, он задыхался, утопая в плену мягких матрасов, и не мог заснуть, пока не вылезал оттуда и не ложился на ковре. Он растягивается вдоль огромной кровати. Туфли тоже большего размера, чем у обычных людей. Такие, должно быть, носили мужеподобные амазонки. Над его головой — правая рука женщины. Над ногами ангел. Скоро один из саперов подключит электричество к городской сети, и если Кирпалу Сингху суждено взорваться, он уйдет туда не один, а в компании этой женщины и ангела. Или они умрут, или будут жить вечно. Он больше ничего не в силах изменить. Он всю ночь искал ящики с динамитом и часовые механизмы взрывателей. Или обломки этих стен сомкнутся над ним в безобразную пыльную кучу, или он пройдет по улицам города, освещенным электричеством. Как бы то ни было, он нашел эти две прекрасные фигуры, сделанные с любовью, навевающие мысль о прародителях, и может отдохнуть под аккомпанемент их безмолвной, беззвучной беседы. Положив руки за голову, он заметил в лице ангела жесткость, которую раньше не ощущал. Обманывает белый цветок в руке ангела. На самом деле этот ангел — тоже воин. Подумав так, Кип закрыл глаза и сдался во власть сна. * * * Он спит, развалившись, со спокойной улыбкой на лице, словно поверив наконец, что может позволить себе такую роскошь. Ладонь левой руки лежит на каменном полу. Цвет тюрбана перекликается с цветом белого кружевного воротника на шее Девы Марии. Маленький сапер-индиец в английской военной форме лежит у ее ног, рядом с тремя парами домашних туфель. Кажется, время здесь остановилось. Каждый из них выбрал удобную позицию, чтобы забыть о времени. Так другие будут вспоминать нас. Спокойно улыбающихся, когда мы доверяем своему окружению. Две фигуры с Кипом у их ног будто обсуждают его судьбу. Терракотовая рука поднята в жесте исполнения, обещания большого будущею для этого солдата-иностранца, спящего, как ребенок. И все они, трое, почти готовы прийти к решению и согласию. Под тонким слоем пыли лицо ангела светится мощью и радостью. К его спине приделаны шесть лампочек, двух из которых уже нет. Но, несмотря на это, происходит чудо, и электричество подсвечивает его крылья, так что их красный, синий и золотой цвета, словно позаимствованные у горчичных полей, оживают в этот послеполуденный час. * * * Где бы теперь ни находилась Хана, она чувствует, что в будущем Кип уйдет из ее жизни Она постоянно думает об этом. Дорога, по которой он уходит от нее, началась, когда он превратился среди них в молчаливый камень. Хана хорошо помнит все детали того августовского дня: каким было небо, предметы, которые лежали на столе перед ней, и надвигалась новая гроза. Она видит его в поле, видит, как он сдавил голову руками, но понимает, что это не от боли, а чтобы плотнее прижать наушники. Он в сотне метров от нее, на нижнем поле, и вот она слышит его громкий крик. Впервые, как и все остальные обитатели виллы: ведь до того дня он ни разу не позволил себе повысить голос в разговоре с любым из них. Он падает на колено, словно хочет завязать шнурок. Некоторое время сидит так, потом медленно встает и зигзагами идет к своей палатке, входит и закрывает за собой полог. Раздается сухой треск грома, и она видит, как посинели кисти и предплечья ее рук. Кип появляется из палатки с автоматом. Он решительно идет в здание виллы Сан-Джироламо, проносится мимо Ханы, словно металлический шарик, катящийся в лунку, устремляется в дверь, по ступенькам, перепрыгивая через три, тяжело дыша, стуча ботинками на лестнице, потом по коридору. Она сидит за столом в кухне, перед ней книга, карандаш, все как бы застыло и потемнело в предгрозовом свете. Он врывается в спальню пациента и останавливается у его кровати. — Привет, сапер. Он держит автомат на груди, ремень натянут через согнутую руку. — Что там происходит? Кип смотрит с осуждением, он словно отделился от этого мира, по смуглому лицу катятся слезы. Дернувшись, он стреляет в старый фонтан на стене (гипс рассыпается по кровати), затем поворачивается и наводит автомат на англичанина. Он начинает дрожать, потом пытается собраться. — Опусти автомат, Кип. Он резко откидывается к стене и перестает дрожать. В воздухе все еще кружится пыль от выстрела. — Все эти последние месяцы я сидел вот здесь, у изножия вашей кровати, и слушал вас, дяденька. И в детстве я делал то же самое, впитывая все, чему меня учили старшие люди, и веря, что когда-нибудь смогу применить эти знания, слегка изменяя их или даже дополняя собственным опытом, и смогу передать их кому-то другому. Я вырос в стране, где соблюдают традиции, а позднее был вынужден гораздо чаще сталкиваться с традициями вашей страны и привык к ним. Ваш хрупкий белый остров[109] своими традициями, манерами, книгами, префектами и логикой так или иначе изменил остальной мир. Вы хотите точного соблюдения правил поведения. Я знал: если возьму чашку не теми пальцами, меня прогонят. Если неправильно завяжу галстук, меня проигнорируют. Что дало вам такую силу? Может, корабли? А может, как говорил мой брат, то, что у вас были писаная история и печатные машины? Сначала вы, а потом американцы обратили нас в свою веру своими миссионерскими правилами. И солдаты-индийцы умирали, как герои, и могли считаться «полноценными». Вы ведете войны, словно играете в крикет. Как вам удалось одурачить нас и втянуть в это? Бог… послушайте, что вы сделали… Он бросает автомат на кровать и подходит к англичанину. Детекторный приемник свисает с пояса. Отстегнув его, он надевает наушники на обгоревшую голову пациента. Тот морщится от боли, но сапер не обращает на это внимания. Затем он возвращается и берет автомат. Он видит Хану у двери. Они сбросили бомбу, а потом еще одну. Хиросима и Нагасаки. Он поворачивает дуло к окну. Ястреб в небе над долиной как бы преднамеренно попадает в прицел его автомата. Он закрывает глаза, и перед ним встают азиатские улицы, объятые огнем. Огонь катится по городу жарким ураганом, сжигая его, словно бумажный лист карты, испепеляя тела на своем пути, которые тенью исчезают в воздухе. Он снова содрогается, будто в ознобе тропической лихорадки, от такого «мудрого достижения» Запада. Он наблюдает за английским пациентом, который внимательно слушает то, что говорят в наушниках. Прицел автомата движется по его носу, ниже, к адамову яблоку, несколько выше ключиц. Кип задерживает дыхание. Рука тверда, цель выверена точно. Тогда англичанин переводит взгляд на него. — Сапер. В этот момент в комнате появляется Караваджо и направляется к ним, но приклад, летя по дуге, толкает его в грудь, как тяжелый удар лапы зверя. А потом, завершая движение, которому его обучили в казармах Индии и Англии, Кип снова берет в прицел шею обгоревшего человека. — Кип, давай поговорим. Но его лицо заострилось и затвердело. Сдерживая слезы и ужас, он глядит вокруг, на людей рядом, в другом свете. Наступит ночь, будет туман, но темные глаза молодого воина не выпустят нового обнаруженного врага из поля зрения. — Мой брат говорил мне. «Никогда не забывай о Европе». Он говорил: «Никогда не подставляй ей спину. Дилеры. Вербовщики. Картографы. Никогда не доверяй европейцам. Никогда не здоровайся с ними». Но мы… О, нас так легко увлечь! Мы поддались на ваши речи, награды и церемонии. Что я делаю эти последние годы? Отрезаю провода, обезвреживаю дьявольские штуки. Зачем? Чтобы это случилось? — Что случилось? Господи, да скажи же нам, наконец! — Я оставлю вам радио, где вам будет преподан урок истории. Не двигайся, Караваджо. Все эти высокопарные речи королей, королев и президентов… абстрактные рассуждения о цивилизации и о коричневой чуме, которая ей якобы больше не угрожает. А вы послушайте, чем это пахнет. Послушайте радио и почувствуйте торжество в интонациях… В моей стране, когда отец нарушает справедливость, вы должны его убить. — Ты не знаешь, кто и в чем сейчас конкретно виноват. Ты не должен осуждать этого мужчину. Разве ты знаешь доподлинно, кто он такой? Сапер держит в прицеле автомата шею пациента, потом приподнимает дуло чуть-чуть — теперь оно направлено на глаза. — Сделай это, Кип, — говорит Алмаши. Взгляд сапера встречается со взглядом пациента в этой полутемной комнате, которая заполнилась событиями, происходящими в мире. Лежащий кивает. — Сделай это, — спокойно повторяет он. Кип разряжает автомат и ловит патрон, когда тот начинает падать. Потом бросает оружие на кровать, словно змею, у которой забрали яд. Боковым зрением он видит Хану. Обгоревший человек медленно стягивает наушники с черной головы и кладет их перед собой. Потом поднимает левую руку, выдергивает слуховой аппарат и бросает его на пол. — Сделай это. Кип. Я ничего не хочу больше слышать. Он закрывает глаза и уплывает в темноту, подальше от этой комнаты. Сапер прислоняется к стене, руки сложены, голова опушена вниз. Караваджо слышит, как он дышит, быстро и тяжело; шум воздуха в ноздрях напоминает работу поршня. — Он же не англичанин. — Какая разница — американец или француз, мне наплевать. Когда вы начинаете бомбить желтую расу, вы англичане. У вас был король Леопольд в Бельгии, а теперь появился этот проклятый Гарри Трумэн в США. А всему вы научились у англичан. — Нет. Он ни при чем. Это ошибка. Из всех людей он, возможно, единственный, кто тебя понимает. — Он скажет, что и это не имеет значения, — говорит Хана. Караваджо сидит на стуле. Ему вдруг приходит в голову мысль, что он всегда сидит на этом стуле. В комнате слышится скрежет детекторного приемника, голос диктора все еще что-то говорит. Дэвид не может повернуться и посмотреть на сапера или на расплывчатое пятно платья Ханы. Он знает, что молодой солдат прав. Они бы никогда не сбросили такую бомбу на белую нацию. Сапер выходит из комнаты, оставляя Караваджо и девушку у кровати пациента, оставляя этих троих в мире, где он больше не будет их часовым. «Когда пациент умрет, нам с Ханой придется вдвоем хоронить его.» «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».[110] Он никогда до конца не понимал, что значит эта фраза, эти несколько бессердечных слов из самой главной священной книги белых людей. Они похоронят все, кроме книги. Тело, простыни, его одежду, автомат. И скоро он останется только вдвоем с Ханой. И причиной тому — новость, которую повторяют и обсуждают сейчас по радио. Ужасное событие, о котором сообщают на коротких волнах. Новая война. Смерть цивилизации. * * * Стоит тихая ночь. Он слышит отдаленные крики ночных птиц, приглушенные звуки крыльев, когда они летят над палаткой. Кипарисы стоят молча, некому шуметь в их листве. Безветрие. Кип лежит на спине, уставившись в темный угол палатки. Когда он закрывает глаза, то видит пламя, людей, бросающихся в реки и любые водоемы, чтобы избежать жары и огня, который за секунды сжигает все, все, что есть у них и на них: одежду, кожу, волосы, даже воду, в которой они спасаются. Эту замечательную бомбу привезли из-за океана на самолете — луна серебрила его крылья — и сбросили над зеленым азиатским архипелагом. Он ничего не ел и не пил, будучи не в силах проглотить ни крошки, ни капли. До наступления темноты он очистил палатку от всех предметов военного назначения, от саперного инструмента, сорвал все знаки различия с собственной формы. Иную одежду пока взять негде. Перед тем как лечь, он размотал тюрбан, расчесал волосы и завязал их в узел над теменем. Лег, наблюдая, как медленно угасает свет за стенками палатки. Его глаза держат последние лучи, уши слышат последний вздох ветра перед безветренной ночью, а потом остаются лишь приглушенные звуки птичьих крыльев и все тонкие ночные шумы. Он чувствует: Азия впитала, всосала, втянула в себя сегодня все ветры мира. Он откладывает в сторону воспоминания обо всех крупных, мелких и маленьких бомбах, с которыми ему пришлось иметь дело, и думает об одной. Кажется, она размером с город, такая огромная, раз от взрыва гибнут не единицы, не десятки и не сотни, а многие тысячи людей, и живущие сейчас на земном шаре впервые становятся свидетелями столь массового убийства. Он практически ничего не знает об этом новом виде оружия. Было ли оно внезапным выбросом целой тучи острых и быстрых кусочков металла или стремительным разливом струи раскаленного воздуха, воспламеняющей все живое? Но он точно знает то, что не позволит больше никому из них приблизиться к нему, он никогда не сможет снова и не будет есть или пить из глиняных черепков на каменной скамейке на террасе. Он не чувствует себя в состоянии вытащить спичку из мешка и зажечь лампу, ибо ему кажется, что тогда заполыхает все вокруг. Когда еще было светло, он достал из мешка фотографию своей семьи и долго смотрел на нее. Его зовут Кирпал Сингх, и непонятно, что он здесь делает. Сейчас он стоит под кипарисами в августовской жаре, без тюрбана, без рубашки. И в руках у него ничего нет. Затем он идет вдоль живой изгороди, ступая босыми ногами по траве, по каменному полу террасы и углям от костров. Его живое тело двигается сквозь все это спящее царство, находящееся на краю такой злой и смертельно опасной Европы. * * * Рано утром она видит, что он стоит у входа в палатку. Вечером она замечала свет между деревьями. Вчера каждый из них ужинал в одиночестве, а пациент вообще отказался от еды. Теперь она видит, как сапер взмахнул рукой, и стены палатки упали, словно спущенные паруса. Он поворачивается, идет к дому, поднимается по ступенькам террасы и исчезает. В часовне он проходит мимо сгоревших скамеек к полукругу апсиды, где под брезентом, придавленным ветками, стоит мотоцикл марки «Триумф». Он стягивает с машины покрытие, склоняется над нею и начинает смазывать маслом цепь и зубья передачи. Когда Хана входит в часовню, открытую небу, сапер сидит, прислонившись спиной и головой к колесу. — Кип. Он ничего не отвечает, глядя сквозь нее. — Кип, это я. Что нам теперь со всем этим делать? Он словно окаменел. Она приседает перед ним на колени и наклоняется к нему. Кладет голову ему на грудь. Слышит, как бьется его сердце. Он остается неподвижным. Тогда она отодвигается от него. — Однажды англичанин наизусть прочитал мне из какой-то книги: «Любовь так невелика, что может пролезть в игольное ушко». Он ложится на пол в сторону от нее, его лицо оказывается в нескольких сантиметрах от дождевой лужицы. Мальчик и девочка. Когда сапер вытащил «Триумф» из-под брезента, Караваджо лежал на парапете, подложив предплечье под подбородок. Потом он почувствовал, что не в силах больше оставаться в сегодняшней тягостной атмосфере этого дома, и ушел. Его не было здесь, когда сапер завел мотоцикл, сел на него, и машина ожила, дернулась под ним вперед, а Хана стояла рядом. Кирпал Сингх дотронулся до ее руки и поехал вниз по склону, увлекаемый силой тяжести, и только потом отпустил сцепление. На середине дороги, ведущей к портам, его ждал Караваджо с автоматом в руках. Он преградил мотоциклу путь, не приподнимая оружия даже в знак приветствия, и мальчик притормозил. Караваджо подошел и крепко обнял его. И сапер впервые почувствовал острую щетину Дэвида у себя на щеке Он вдруг ощутил, как его потянуло остаться, и собрал в кулак всю свою волю. — Мне придется научиться жить без тебя, — сказал Караваджо. И тогда мальчик уехал, а пожилой мужчина побрел обратно в дом. * * * Мотоцикл взревел, оставляя за собой клубы пыли и кучи гравия, перепрыгнул через загородку для скота в проеме ворот, затем покатился вниз, из деревни, сквозь аромат садов по обеим сторонам дороги, чудом прилепившихся па склонах. Его тело приняло привычное положение: грудь почти касается бака с горючим, руки раскинуты горизонтально, чем обеспечивается наименьшее лобовое сопротивление. Он направился на юг, покидая Флоренцию навсегда. Через Греве, Монтеварки и Амбру, маленькие городки, которые война обошла стороной. Затем, когда показалась новая цепь холмов, он начал взбираться на ее гребень, в сторону Кортоны. Он ехал теперь против генерального направления былого продвижения войск союзников, как бы раскручивая обратно пружину их вторжения, по маршруту, который уже не был перегружен военной техникой. Он выбирал только те дороги, которые знал, видя на расстоянии знакомые города-замки. Он неподвижно лежал на мотоцикле, который нагревался в стремительном броске по негладким сельским дорогам. У него не было ни багажа, ни какого-либо оружия, почти все он оставил на вилле, и в первую очередь — оружие или инструменты-орудия, которые хоть как-то могли напомнить ему об оружии. А «Триумф» мчался и мчался, проезжая деревни, не делая остановок в городах и не давая воли воспоминаниям о войне. «…Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель…»[111] * * * Она открыла его мешок. Там были: револьвер, обмотанный промасленной тряпкой, так что, когда она его развернула, запахло маслом; зубная щетка и порошок; блокнот с рисунками карандашом, на одном из которых — она, сидящая на террасе, а он, должно быть, смотрел из окна комнаты английского пациента; два тюрбана и бутылочка с крахмалом; саперный фонарь с кожаными ремешками, которым пользовались в экстренных случаях. Она включила фонарь, и рюкзак заполнился малиновым светом. В боковых карманах она обнаружила разные детали саперного снаряжения, необходимого для обезвреживания бомб или мин, но не стала их трогать. Еще там была завернутая в тряпочку металлическая трубка, которой пользуются в ее стране для вытягивания из деревьев кленового сахара. Она помнит, как подарила ее ему. Из-под упавшей палатки она достала групповой портрет, должно быть, его семьи, и подержала фотографию в своих ладонях. Семья сикхов. Старший брат, которому здесь только одиннадцать. Рядом с ним восьмилетний Кип. «Когда началась война, мой брат присоединялся к любому, кто выступал против англичан.» Еще там была маленькая записная книжка со схемами бомб. И изображение святого, которому аккомпанирует музыкант. Она положила все обратно в мешок, кроме фотографии, которую держала в руке, и понесла его под деревьями, затем через лоджию и в дом. * * * Примерно через каждый час он останавливался, смачивал защитные очки собственной слюной и протирал их рукавом рубашки. Снова сверившись с картой, он окончательно решил, что надо сначала направляться к Адриатике, потом на юг. Почти все войска сосредоточены теперь у северных границ Италии. Путь они так и остаются там, за его спиной. Он въехал в Кортону под пронзительный рев мотоцикла, подрулил к дверям церкви, спешился и вошел. Статуя там была, обнесенная лесами. Он хотел поближе рассмотреть ее лицо, но теперь у него нет автомата с прицелом, а лезть по лесам не хватит сил — точнее, гибкости. Он чувствовал себя жестким, как металлический штифт, и побродил внизу, словно не мог войти в свой собственный дом. Затем провел мотоцикл вниз по ступенькам крыльца. И пустил его накатом через разрушенные виноградники по направлению к Ареццо. У города Сансеполькро он опять выбрал извилистый путь наверх. Горы затянуло довольно-таки плотной дымкой, и пришлось ехать на минимальной скорости. Бокка-Трабария.[112] Ему было холодно, но он старался об этом не думать. Наконец, дорога поднялась над слоем тумана, который остался позади, словно постель. Он обогнул Урбино, где немцы сожгли всех лошадей. Сражения в этом районе длились около месяца, сейчас же он пробуравил его насквозь за немногие минуты, узнавая только храмы Черной Мадонны. Война сделала похожими все большие и малые города. Он подъехал к побережью в Габичче Маре, где в мае 1944 года видел Деву Марию, выходящую из воды. Ночлег себе решил устроить на холме, откуда были видны скалы и морe, недалеко от того мыса, где когда-то эта статуя встречала восход. Так закончился первый день его возвращения домой. * * * Дорогая Клара — дорогая маман! «Маман» — французское слово, очень широко употребительное, означает «объятия». Очень личное слово, но его можно выкрикивать на публике. Что-то успокаивающее и вечное, словно плавучий дом. Хотя я знаю, что тебе больше по душе каноэ. Ты можешь свернуть в любую сторону или вплыть в устье любого ручья, затрачивая на это считанные секунды. Ты по-прежнему независима. До сих пор одна. И вправду, нет такого плавучего дома, который помог бы человеку разделить ответственность за все, что его окружает. Это мое первое письмо к тебе за все минувшие годы, Клара, но я не очень-то большой мастер писать письма. Последние месяцы я провела с тремя мужчинами, и мы редко разговаривали, только по необходимости или по случайности. Так что я отвыкла разговаривать, и особенно с женщинами, считай это моей первой попыткой. На дворе стоит год 194… Представляешь? На секунду я забыла. Но я помню месяц и дату. Нынче как раз тот день, когда мы услышали, что сбросили эти бомбы на Японию, и у нас у всех такое чувство, будто наступил конец света. Теперь я поняла, что личное всегда будет в состоянии войны с общественным. И если мы сможем дать этому разумное объяснение, мы сможем объяснить все. Патрик умер во Франции, на голубятне. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях во Франции строили огромные голубятни, иногда даже больше домов. Примерно вот такие:
Горизонтальная линия на уровне примерно двух третей высоты от пола обозначает карниз от крыс — чтобы крысы не запрыгивали, а голуби были в безопасности. В безопасности, как в голубятне. Святое место. Во многом похожее на церковь. Место, где находят утешение. Патрик умер в таком месте. * * * В пять утра он завел мотоцикл, и при повороте из-под заднего колеса вырвался крупный песок. Еще было темно, и море вдали под скалой не различалось. У него не было карты для прокладки дальнейшего маршрута отсюда на юг, но можно вспомнить, опознать военные дороги и ехать вдоль берега. Когда взошло солнце, он прибавил скорость. Реки были еще впереди. Примерно к двум часам дня он достиг Ортоны,[113] в окрестностях которой саперы возводили тогда наплавные понтонные мосты, едва не утопая в глубоких водах речных стремнин во время грозы. Начался дождь, и он остановился, чтобы развернуть плащ-накидку. Заодно обошел вокруг машины, которая, проехав длинный путь, издавала уже другие шумы. Вместо скулящих и завывающих звуков сейчас слышалось только легкое шипение, со щитка переднего колеса к его ботинкам капала вода. Сквозь защитные очки все выглядело серым. Он отгонял от себя мысли о Хане. В этой тишине он не будет думать о ней. Когда перед ним появлялось ее лицо, он стирал его, потягивая на себя то один, то другой рог руля «Триумфа» и заставляя тем самым себя концентрировать все внимание на скользкой дороге. Если ему и нужны какие-то слова, то не ее речи, а будет достаточно, например, читать названия городов на восточном побережье Италии, вдоль которого он сейчас едет. Он чувствует англичанина рядом. Обгоревшее тело сидит верхом на баке с горючим и обнимает водителя; они не просто в одной связке, но и лицом к лицу. Англичанин смотрит над его плечом назад, то в прошлое, то на сельские пейзажи, сквозь которые они пролетают. Далеко позади на одном из холмов Италии остался тот странный полуразрушенный дворец, который уже никогда не восстановят, и его странные обитатели, с которыми Кирпал Сингх уже никогда не встретится. «…И слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего…»[114] Голос английского нациста нараспев повторял слова Исайи в его ухо, совсем как тогда, когда сикху рассказывали о лице, изображенном на потолке церкви в Риме. «Конечно, есть сотни вариантов изображения Исайи. Может быть, вам захочется увидеть его старым — в монастырях на юге Франции он именно таков, с бородой, но в его взгляде все равно светится притягательная сила.» Англичанин пел в своей раскрашенной комнате. «Вот, Господь перебросит тебя, как бросает cильный человек, и сожмет тебя в ком; свернув тебя в сверток, бросит тебя, как мяч в землю обширную…»[115] Ему нравилось лицо на фреске, и потому нравились эти слова. Сикх верил в обгоревшего пациента и луга цивилизации, о которых тот заботился. Слова Исайи, Иеремии и Соломона были записаны в его настольной книге, его личной священной книге, в которую он вклеивал все, что любил. Он передал эту книгу саперу, а тот сказал: — У нас тоже есть «Священная Книга». Дождь усиливался. Резиновый ободок на защитных очках треснул месяц или два назад, и вода заливала стекла. Он снял очки и поехал дальше, слыша шум моря. Его тело было напряжено, его бил озноб, тепло исходило только от мотоцикла, к которому он прижался. Белый луч фары скользил в темноте, когда он проезжал деревни, как падающая звезда, видимая только полсекунды, за которые, однако, можно успеть загадать желание. «…Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут… Как одежду, съест их моль, и, как волну, съест их червь…»[116] Он снял очки как раз тогда, когда надо было поворачивать на мост через реку Офанто.[117] Он держал их в левой руке, а руль — одной правой, и мотоцикл стало заносить в сторону. Он бросил очки и заглушил мотор, но не предусмотрел сильного удара о металлический край моста. «Триумф» упал вправо, и его понесло вместе с дождевым потоком на середину моста, освещая руки и лицо человека голубыми искрами от скрежета по металлу. Тяжелая железка отлетела и ударила его в плечо. Потом его с мотоциклом отбросило влево, где мост не был огорожен, и они помчались параллельно воде, его руки откинуты назад над головой. Плащ-накидка сорвалась с плеч, машина, смерть и солдат застыли высоко в воздухе, а затем резко рухнули вниз. Он и металлическое тело, в которое он врос, ударились о воду и, породив белую пенную дорожку, исчезли, как и дождь, в реке. «…Господь бросит тебя, как мяч, в землю обширную…» * * * Как умер Патрик в голубятне, Клара? Его подразделение оставило его там, обожженного и раненого. Он так обгорел, что пуговицы его рубашки расплавились и стали его кожей, частью его груди, которую я когда-то целовала, и ты целовала. Но почему же обгорел мой отец? Он, который мог уворачиваться, как угорь, или как твое каноэ, словно заговоренный, от реального мира. В своей милой и сложной наивности он был самым несловоохотливым человеком, и я всегда удивлялась, что он нравился женщинам. Нам ведь больше нравятся разговорчивые мужчины. Мы разумны, мудры, а он часто бывал потерян, неуверен, молчалив. Он обгорел, а я-то была медсестрой и могла бы его выходить. Понимаешь, какая печальная география? Я могла бы спасти его или хотя бы побыть рядом с ним в последние минуты. Я теперь многое знаю об ожогах. Как долго он промучился там в одиночку среди голубей и крыс? Что чувствовал или бормотал в последние минуты угасания, когда жизнь уходила из его тела? Голуби вились над ним, а он вздрагивал от шума их крыльев. Он не мог спать в темноте. Он всегда ненавидел темноту. И он был один, рядом ни любимого, ни родного человека. Я устала от Европы, Клара. Я хочу домой. В твою маленькую хижину на розовой скале в заливе Джорджиан-Бей. Я сяду в автобус до Парри-Саунда. И с материка пошлю по коротким волнам радиосообщение в Нэнкейкс. И буду ждать тебя, пока не увижу твой силуэт в каноэ. Вот ты плывешь, чтобы спасти меня, вызволить отсюда, куда мы все ушли, предав тебя. Что давало тебе силы? Как тебе удалось остаться столь решительной? Почему тебя не удалось одурачить так, как нас? Ты демонически любишь удовольствия и стала такой мудрой. Самая чистая из нас, самая темная фасолинка, самый зеленый лист. Хана. * * * Лишившаяся тюрбана голова сапера появляется из воды, и он вдыхает полной грудью, кажется, весь воздух над этой рекой. * * * Караваджо соорудил веревочный мост к крыше соседней виллы. Пеньковая веревка привязана ближним концом за талию статуи работы Деметрия,[118] а остатки ее спущены в лестничную клетку. Натянута она над верхушками двух оливковых деревьев. Если он потеряет равновесие, то упадет прямо в их жесткие и пыльные объятия. Он ступает на веревку, ощупывая ее ногами в носках. «Насколько ценна эта статуя?» — спросил он однажды Хану, словно между прочим, и она ответила, что, как говорил англичанин, все статуи Деметрия ничего не стоят. * * * Она заклеивает письмо, встает, идет через комнату, чтобы закрыть окно, и в этот момент долину прорезает молния. Девушка видит Караваджо между небом и землей на полпути через ущелье, которое, наверное, похоже на глубокий шрам, если смотреть оттуда. Она некоторое время стоит, задумавшись, потом забирается в нишу окна и сидит там, глядя в долину. С каждым новым блеском молнии можно видеть дождь, который хлещет в окно, и канюков, взлетающих к небу под самые тучи. Она хотела бы нащупать и поддержать своим взглядом Караваджо. Он дошел уже до середины пути, когда почувствовал запах приближающегося дождя, а потом капли и струи начали хлестать по канатоходцу, пропитывая его одежду, которая становится все тяжелее и все сильнее прилипает к коже. Хана протягивает из окна ладони чашечкой, набирает в них воды, падающей с неба, и смачивает свою голову. * * * Вилла погружается в темноту. В коридоре возле комнаты английского пациента догорает последняя свеча. Когда он открывает глаза, он видит ее старый, колеблющийся желтый свет. Для него теперь в мире нет звуков, и даже свет кажется уже ненужным. Утром он скажет девушке, что не надо понапрасну тратить свечи, ибо в путешествии сквозь ночь (особенно если удается заснуть) ему не нужны никакие компаньоны, даже вечно живое и переменчивое пламя. Около трех часов ночи он чувствует, что в комнате кто-то есть. На какое-то мгновение ему кажется, что неурочный посетитель стоит у изножия кровати, возле стены, а может, нарисован на ней, плохо различимый в темноте листвы над слабым огоньком свечи. Обгоревший человек что-то бормочет, хочет что-то сказать, но стоит тишина, и призрачная коричневая фигура (возможно, всего лишь невесомая ночная тень) не двигается. Это тополь? Или мужчина в оперении? Или пловец? Жаль, что больше не представится возможности поговорить с сапером. В любом случае в эту ночь он уже не будет спать, чтобы увидеть, не подойдет ли эта фигура к нему. Он не станет принимать таблетки, которые заглушают боль, он останется бодрствующим, пусть даже догорит свеча, и дым от нее расплывется по его комнате и дойдет до комнаты девушки, которая расположена дальше по коридору. Если фигура повернется, должна быть видна краска на спине, которой гость прислонился в печали к фрескам деревьев. Когда сгорит свеча, хозяин комнаты приобретет способность заметить эти пятна на лопатках… Его рука медленно гнется, дотрагивается до книги Геродота и возвращается на место. Больше в комнате ничего не двигается. * * * Где он сидит сейчас, когда думает о ней? Прошло уже столько лет после войны. Камень истории скользит по воде, подпрыгивая, а они успели состариться до того, как он коснется поверхности в последний раз, застынет и пойдет ко дну. Может, он сидит в своем саду, размышляя о том, что ему нужно вернуться в дом, сесть к столу и написать ей письмо или же пойти в один прекрасный день на телефонную станцию, заполнить бланк и попытаться связаться с ней, живущей в другой стране, на другом конце света? Его сад, этот квадратный клочок сухой подстриженной травы, переключает его память на месяцы, проведенные с Ханой, Караваджо и английским пациентом к северу от Флоренции, на вилле Сан-Джироламо. Сейчас у него есть семья, веселая жена, двое детей. Он сделался, как требует семейная традиция, врачом, и на малый объем работы жаловаться не приходится. В шесть вечера он снимает свой белый халат. Под ним — темные брюки и рубашка с короткими рукавами. Он закрывает клинику, где множество бумаг, чтобы их не перемешал ветер от вентилятора, прижаты разнообразными предметами — камнями, чернильницами, игрушечным грузовиком, который уже наскучил его сыну. Доктор Кирпал Сингх садится на велосипед и едет через базар домой. Ехать ему надо больше шести километров. Когда есть возможность, он сворачивает на тенистую сторону улицы. Он достиг того возраста, когда понимает, что солнце Индии истощает его. Он скользит под ивами вдоль канала, затем останавливается у небольшой группы домов, снимает со штанин клипсы-зажимы и несет велосипед вниз по ступенькам в маленький сад, детище его жены. И какая-то сила подняла в этот вечер камень из воды и заставила его двигаться в обратном направлении по воздуху в тот городок средь холмов Италии. Может быть, снова вспомнить все подтолкнул химический ожог на руке у девочки, который он лечил сегодня? Или вид каменных ступенек, сквозь которые буйно пробивались коричневые сорняки? Он нес свой велосипед, только не вниз, как сейчас, а наверх, и на середине высоты ступенек вдруг почувствовал что-то необычное — телепатический вызов? Да-да, это было похоже на работу; значит, его память держала воспоминания наготове, как снайпер держит палец на спусковом крючке, в течение всего дня, когда он семь часов кряду принимал пациентов и решал административные вопросы. А может, причина — все-таки ожог на руке той девочки. Он сидит в саду и пытается представить себе, какой стала Хана. Она живет в своей стране. У нее длинные волосы. А чем она занимается? Он может увидеть ее нынешние тело и лицо, но не знает, какая у нее профессия и как она живет. Он видит, как она реагирует на окружающих людей, наклоняется к детям. За нею просматривается белая дверь холодильника, а вдали за окном бесшумно проносятся трамваи. Это тот небольшой подарок, который ему отпущен, как будто она (и лишь она) оживает перед ним на пленке, только без звука. Он не может определить, в каком обществе она вращается, о чем говорит. Все, что он видит, — это ее характер и длинные волосы, которые время от времени падают ей на глаза. Он сейчас понимает, что у нее всегда будет серьезное лицо. Молодая женщина приобрела вид слегка чопорной королевы, осуществив свое желание выглядеть определенным образом. И ему нравится в ней это. Ее сила. Хана не унаследовала свой внешний вид от родителей, бабушек или более дальних предков, а сделала его целью, к которой устремилась и которой достигла. И он отражает теперешнее состояние ее души. Кажется, каждый месяц или два он получает такую волшебную возможность видеть ее, как будто эти моменты, когда открывается канал связи, действие которого трудно объяснить непосвященному человеку, являются продолжением ее писем. Письма она безответно писала и отправляла ему целый год, а потом прекратила. Причиной его отталкивающего молчания, полагает он, послужил его характер. Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 837 | Нарушение авторских прав |